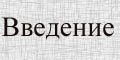|
|
ДЕТСКИЕ ГОДЫ БАГРОВА-ВНУКА

Сергей Тимофеевич Аксаков, тонкий и глубокий живописец родной природы и
большой знаток человеческой души, родился в Уфе 1791 году. Широко известна
его общественная и литературная деятельность, а такие его произведения, как
«Аленький цветочек», «Семейная хроника», «Детские годы Багрова-внука», вошли
в золотой фонд русской классики. Многие страницы его прекрасных книг
запечатлели Уфу и различные местности Башкортостана его времени.
...Мы жили тогда в губернском городе Уфе и занимали огромный зубинский
деревянный дом, купленный моим отцом, как я после узнал, с аукциона за
триста рублей ассигнациями. Дом был обит тесом, но не выкрашен; он потемнел
от дождей, и вся эта громада имела очень печальный вид. Дом стоял на
косогоре, так что окна в сад были очень низки от земли, а окна из столовой
на улицу, на противоположной стороне дома, возвышались аршина три над
землей; парадное крыльцо имело более двадцати пяти ступенек, и с него была
видна река Белая почти во всю свою ширину. Две детские комнаты, в которых я
жил вместе с сестрой, выкрашенные по штукатурке голубым цветом, находившиеся
возле спальной, выходили окошками в сад, и посаженная под ними малина росла
так высоко, что на целую четверть заглядывала к нам в окна, что очень
веселило меня и неразлучного моего товарища — маленькую сестрицу. Сад,
впрочем, был хотя довольно велик, но не красив: кое-где ягодные кусты
смородины, крыжовника и барбариса, десятка два-три тощих яблонь, круглые
цветники с ноготками, шафранами и астрами, и ни одного большого дерева,
никакой тени; но и этот сад доставлял нам удовольствие, особенно моей
сестрице, которая не знала ни гор, ни полей, ни лесов; я же изъездил, как
говорили, более пятисот верст: несмотря на мое болезненное состояние,
величие красот божьего мира незаметно ложилось на детскую душу и жило без
моего ведома в моем воображении; я не мог удовольствоваться нашим бедным
городским садом и беспрестанно рассказывал моей сестре, как человек бывалый,
о разных чудесах, мною виденных; она слушала с любопытством, устремив на
меня, полные напряженного внимания, свои прекрасные глазки, в которых в то
же время ясно выражалось: «Братец, я ничего не понимаю». Да и что мудреного:
рассказчику только пошел пятый год, а слушательнице — третий.
Я сказал уже, что был робок и даже трусоват; вероятно, тяжкая и
продолжительная болезнь ослабила, утончила, довела до крайней
восприимчивости мои нервы, а может быть, и от природы я не имел храбрости.
Первые ощущения страха поселили во мне рассказы няньки. Хотя она собственно
ходила за сестрой моей, а за мной только присматривала, и хотя мать строго
запрещала ей даже разговаривать со мною, но она иногда успевала сообщить мне
кое-какие известия о буке, о домовых и мертвецах. Я стал бояться ночной
темноты, и даже днем боялся темных комнат. У нас в доме была огромная зала,
из которой две двери вели в две небольшие горницы, довольно темные, потому
что окна из них выходили в длинные сени, служившие коридором; в одной из них
помещался буфет, а другая была заперта; она некогда служила рабочим
кабинетом покойному отцу моей матери; там были собраны все его вещи:
письменный стол, кресло, шкаф с книгами и проч. Нянька сказала мне, что там
видят иногда покойного моего дедушку Зубина, сидящего за столом и
разбирающего бумаги. Я так боялся этой комнаты, что, проходя мимо нее,
всегда зажмуривал глаза. Один раз, идучи по длинным сеням, забывшись, я
взглянул в окошко кабинета, вспомнил рассказ няньки, и мне почудилось, что
какой-то старик в белом шлафроке сидит за столом. Я закричал и упал в
обморок. Матери моей не было дома. Когда она воротилась и я рассказал ей обо
всем случившемся и обо всем, слышанном мною от няни, она очень рассердилась:
приказала отпереть дедушкин кабинет, ввела меня туда, дрожащего от страха,
насильно, и показала, что там никого нет и что на креслах висело какое-то
белье. Она употребила все усилия растолковать мне, что такие рассказы —
вздор и выдумки глупого невежества. Няньку мою она прогнала и несколько дней
не позволяла ей входить в нашу детскую. Но крайность заставила призвать эту
женщину и опять приставить к нам; разумеется, строго запретили ей
рассказывать подобный вздор и взяли с нее клятвенное обещание никогда не
говорить о простонародных предрассудках и поверьях; но это не вылечило меня
от страха. Нянька наша была странная старуха, она была очень к нам
привязана, и мы с сестрой ее очень любили. Когда ее сослали в людскую и ей
не позволено было даже входить в дом, она прокрадывалась к нам ночью,
целовала нас сонных и плакала. Я это видел сам, потому что один раз ее ласки
разбудили меня. Она ходила за нами очень усердно, но, по закоренелому
упрямству и невежеству, не понимала требований моей матери и потихоньку
делала ей все наперекор. Через год ее совсем отослали в деревню. Я долго
тосковал: я не умел понять, за что маменька так часто гневалась на добрую
няню, и оставался в том убеждении, что мать просто ее не любила.
Я всякий день читал свою единственную книжку «Зеркало добродетели» моей
маленькой сестрице, никак не догадываясь, что она еще ничего не понимала,
кроме удовольствия смотреть картинки. Эту детскую книжку я знал тогда
наизусть всю; но теперь только два рассказа и две картинки из целой сотни
остались у меня в памяти, хотя они, против других, ничего особенного не
имеют. Это «Признательный лев» и «Сам себя одевающий мальчик». Я помню даже
физиономию льва и мальчика! Наконец «Зеркало добродетели» перестало
поглощать мое внимание и удовлетворять моему ребячьему любопытству, мне
захотелось почитать других книжек, а взять их решительно было негде; тех
книг, которые читывали иногда мой отец и мать, мне читать не позволяли. Я
принялся было за «Домашний лечебник Бухана», но и это чтение мать сочла
почему-то для моих лет неудобным; впрочем, она выбирала некоторые места и,
отмечая их закладками, позволяла мне их читать; и это было в самом деле
интересное чтение, потому что там описывались все травы, соли, коренья и все
медицинские снадобья, о которых только упоминается в лечебнике. Я
перечитывал эти описания уже гораздо в позднейшем возрасте и всегда с
удовольствием, потому что все это изложено и переведено на русский язык
очень толково и хорошо.
Благодетельная судьба скоро послала мне неожиданное новое наслаждение,
которое произвело на меня сильнейшее впечатление и много расширило тогдашний
круг моих понятий. Против нашего дома жил в собственном же доме С. И.
Аничков, старый, богатый холостяк, слывший очень умным и даже ученым
человеком; это мнение подтверждалось тем, что он был когда-то послан
депутатом от Оренбургского края в известную комиссию, собранную Екатериною
Второй для рассмотрения существующих законов. Аничков очень гордился, как
мне рассказывали, своим депутатством и смело поговаривал о своих речах и
действиях, не принесших, впрочем, по его собственному признанию, никакой
пользы. Аничкова не любили, а только уважали и даже прибаивались его резкого
языка и негибкого нрава. К моему отцу и матери он благоволил и даже давал
взаймы денег, которых просить у него никто не смел. Он услышал как-то от
моих родителей, что я мальчик прилежный и очень люблю читать книжки, но что
читать нечего. Старый депутат, будучи просвещеннее других, естественно был
покровителем всякой любознательности. На другой день вдруг присылает он
человека за мною; меня повел сам отец. Аничков, расспросив хорошенько, что я
читал, как понимаю прочитанное и что помню, остался очень доволен; велел
подать связку книг и подарил мне... о счастие!.. «Детское чтение для сердца
и разума», изданное безденежно при «Московских ведомостях» Н. И. Новиковым.
Я так обрадовался, что чуть не со слезами бросился на шею старику и, не
помня себя, запрыгал и побежал домой, оставя своего отца беседовать с
Аничковым. Помню, однако, благосклонный и одобрительный хохот хозяина,
загремевший в моих ушах и постепенно умолкавший по мере моего удаления.
Боясь, чтоб кто-нибудь не отнял моего сокровища, я пробежал прямо через сени
в детскую, лег в свою кроватку, закрылся пологом, развернул первую часть — и
позабыл все меня окружающее. Когда отец воротился и со смехом рассказал
матери все происходившее у Аничкова, она очень встревожилась, потому что и
не знала о моем возвращении. Меня отыскали лежащего с книжкой. Мать
рассказывала мне потом, что я был точно как помешанный: ничего не говорил,
не понимал, что мне говорят, и не хотел идти обедать. Должны были отнять
книжку, несмотря на горькие мои слезы. Угроза, что книги отнимут совсем,
заставила меня удержаться от слез, встать и даже обедать. После обеда я
опять схватил книжку и читал до вечера. Разумеется, мать положила конец
такому исступленному чтению: книги заперла в свой комод и выдавала мне по
одной части, и то в известные, назначенные ею часы. Книжек всего было
двенадцать, и те не по порядку, а разрозненные. Оказалось, что это не полное
собрание «Детского чтения», состоявшего из двадцати частей. Я читал свои
книжки с восторгом и, несмотря на разумную бережливость матери, прочел все с
небольшим в месяц. В детском уме моем произошел совершенный переворот, и для
меня открылся новый мир... Я узнал в «рассуждении о громе», что такое
молния, воздух, облака; узнал образование дождя и происхождение снега.
Многие явления в природе, на которые я смотрел бессмысленно, хотя и с
любопытством, получили для меня смысл, значение и стали еще любопытнее.
Муравьи, пчелы и особенно бабочки с своими превращеньями из яичек в червяка,
из червяка в хризалиду и, наконец, из хризалиды в красивую бабочку —
овладели моим вниманием и сочувствием; я получил непреодолимое желание все
это наблюдать своими глазами. Собственно нравоучительные статьи производили
менее впечатления, но как забавляли меня «смешной способ ловить обезьян» и
басня «о старом волке», которого все пастухи от себя прогоняли! Как
восхищался я «золотыми рыбками»!
+ + +
...Еще прежде я слышал мельком, что мой отец покупает какую-то башкирскую
землю, в настоящее же время эта покупка совершилась законным порядком.
Превосходная земля, с лишком семь тысяч десятин, в тридцати верстах от Уфы,
по реке Белой, со множеством озер, из которых одно было длиною около трех
верст, была куплена за небольшую цену. Отец мой с жаром и подробно рассказал
мне, сколько там водится птицы и рыбы, сколько родится всяких ягод, сколько
озер, какие чудесные растут леса. Рассказы его привели меня в восхищение и
так разгорячили мое воображение, что я даже по ночам бредил новою прекрасною
землею! Вдобавок ко всему в судебном акте ей дали имя «Сергеевской пустоши»,
а деревушку, которую хотели немедленно поселить там в следующую весну,
заранее назвали «Сергеевкой». Это мне понравилось. Чувство собственности,
исключительной принадлежности чего бы то ни было, хотя не вполне, но очень
понимается дитятей и составляет для него особенное удовольствие (по крайней
мере так было со мной), а потому и я, будучи вовсе не скупым мальчиком,
очень дорожил тем, что Сергеевка — моя; без этого притяжательного
местоимения я никогда не называл ее. Туда весною собиралась моя мать, чтоб
пить кумыс, предписанный ей Деобольтом. Я считал дни и часы в ожидании этого
счастливого события и без устали говорил о Сергеевке со всеми гостями, с
отцом и матерью, с сестрицей и с новой нянькой ее, Парашей.
+ + +
...Сергеевка исключительно овладела моим воображением, которое отец
ежедневно воспламенял своими рассказами. Дорога в Багрово, природа, со всеми
чудными ее красотами, не были забыты мной, а только несколько подавлены
новостью других впечатлений: жизнью в Багрове и жизнью в Уфе; но с
наступлением весны проснулась во мне горячая любовь к природе; мне так
захотелось увидеть зеленые луга и леса, воды и горы, так захотелось побегать
с Суркой по полям, так захотелось закинуть удочку, что все окружающее
потеряло для меня свою занимательность и я каждый день просыпался и засыпал
с мыслию о Сергеевке. Святая неделя прошла для меня незаметно. Я, конечно,
не мог понимать ее высокого значения, но я мало обратил внимания даже на то,
что понятно для детей: радостные лица, праздничные платья, колокольный •
звон, беспрестанный приезд гостей, красные яйца и проч. и проч. Приходская
церковь наша стояла на возвышении, и снег около нее давно уже обтаял.
Великим моим удовольствием было смотреть, как бегут по косогору мутные и
шумные потоки весенней воды мимо нашего высокого крыльца, а еще большим
наслаждением, которое мне не часто дозволялось,— прочищать палочкой весенние
ручейки. С крыльца нашего была видна река Белая, и я с нетерпением ожидал,
когда она вскроется. На все мои вопросы отцу и Евсеичу: «Когда же мы поедем
в Сергеевку?» — обыкновенно отвечали: «А вот как река пройдет».
И наконец пришел этот желанный день и час! Торопливо заглянул Евсеич в мою
детскую и тревожно-радостным голосом сказал: «Белая тронулась!» Мать
позволила, и в одну минуту, тепло одетый, я уже стоял на крыльце и жадно
следил глазами, как шла между неподвижных берегов огромная полоса синего,
темного, а иногда и желтого льда. Далеко уже уплыла поперечная дорога, и
какая-то несчастная черная корова бегала по ней, как безумная, от одного
берега до другого. Стоявшие около меня женщины и девушки сопровождали
жалобными восклицаниями каждое неудачное движение бегающего животного,
которого рев долетал до ушей моих, и мне стало очень его жалко. Река на
повороте загибалась за крутой утес — и скрылись за ним дорога и бегающая по
ней черная корова. Вдруг две собаки показались на льду; но их суетливые
прыжки возбудили не жалость, а смех в окружающих меня людях, ибо все были
уверены, что собаки не утонут, а перепрыгнут или переплывут на берег. Я
охотно этому верил и, позабыв бедную корову, сам смеялся вместе с другими.
Собаки не замедлили оправдать общее ожидание и скоро перебрались на берег.
Лед все еще шел крепкою, сплошною, неразрывною, бесконечною глыбою. Евсеич,
опасаясь сильного и холодного ветра, сказал мне: «Пойдем, соколик, в
горницу; река еще не скоро взломается, а ты прозябнешь. Лучше я тебе скажу,
когда лед начнет трескаться». Я очень неохотно послушался, но зато мать была
очень довольна и похвалила Евсеича и меня. В самом деле, не ближе как через
час Евсеич пришел сказать мне, что лед на реке ломается. Мать опять
отпустила меня на короткое время, и, одевшись еще теплее, я вышел и увидел
новую, тоже не виданную мною картину: лед трескался, ломался на отдельные
глыбы; вода всплескивалась между ними; они набегали одна на другую, большая
и крепкая затопляла слабейшую, а если встречала сильный упор, то поднималась
одним краем вверх, иногда долго плыла в таком положении, иногда обе глыбы
разрушались на мелкие куски и с треском погружались в воду. Глухой шум,
похожий по временам на скрип или отдаленный стон, явственно долетал до наших
ушей. Полюбовавшись несколько времени этим величественным и страшным
зрелищем, я воротился к матери и долго, с жаром рассказывал ей все, что
видел. Приехал отец из присутствия, и я принялся с новым жаром описывать
ему, как прошла Белая, и рассказывал ему еще долее, еще горячее, чем матери,
потому что он слушал меня как-то охотнее. С этого дня Белая сделалась
постоянным предметом моих наблюдений. Река начала выступать из берегов и
затоплять луговую сторону. Каждый день картина изменялась, и, наконец,
разлив воды, простиравшийся с лишком на восемь верст, слился с облаками.
Налево виднелась необозримая водяная поверхность, чистая и гладкая, как
стекло, а прямо против нашего дома вся она была точно усеяна иногда
верхушками дерев, а иногда до половины затопленными огромными дубами, вязами
и осокорями, вышина которых только тогда вполне обозначилась, они были
похожи на маленькие, как будто плавающие островки.— Долго не сбывала полая
вода, и эта медленность раздражала мое нетерпение. Напрасно мать уверяла
меня, что она не поедет в Сергеевку до тех пор, покуда не вырастет трава: я
все думал, что нам мешает река и что мы оттого не едем, что она не вошла в
берега. Вот уже наступила теплая, даже жаркая погода. Белая вошла в межень,
улеглась в своих песках; давно уже зеленели поля и зазеленела урема за рекою
— а мы все еще не ехали. Отец мой утверждал, что трудно проехать по тем
местам, которые были залиты весеннею водой, что грязно, топко и что в
долочках или размыло дорогу, или нанесло на нее илу; но мне все такие
препятствия казались совершенно не стоящими внимания. Желание скорее
переехать в Сергеевку сделалось у меня болезненным устремлением всех
помышлений и чувств к одному предмету; я уже не мог ничем заниматься, скучал
и привередничал. Можно было предвидеть и должно было принять действительные
меры, чтобы укротить во мне эту страстность, эту способность увлекаться до
самозабвения и впадать в крайности. Впоследствии я слышал сожаление моей
матери, что она мало обращала внимания на эту сторону моего характера,
великую помеху в жизни и причину многих ошибок.
Я думал, что мы уж никогда не поедем, как вдруг, о счастливый день! Мать
сказала мне, что мы едем завтра. Я чуть не сошел с ума от радости. Милая моя
сестрица разделяла ее со мной, радуясь, кажется, более моей радости. Плохо я
спал ночь. Никто еще не вставал, когда я уже был готов совсем. Но вот
проснулись в доме, начался шум, беготня, укладыванье, заложили лошадей,
подали карету, и, наконец, часов в десять утра мы спустились на перевоз
через реку Белую. Вдобавок ко всему Сурка был с нами.
+ + +
Сергеевка занимает одно из самых светлых мест в самых ранних
воспоминаниях моего детства. Я чувствовал тогда природу уже сильнее, чем во
время поездки в Багрово, но далеко еще не так сильно, как почувствовал ее
через несколько лет. В Сергеевке я только радовался спокойною радостью, без
волнения, без замирания сердца. Все время, проведенное мною в Сергеевке в
этом году, представляется мне веселым праздником.
Мы, так же, как и прошлого года, переправились через Белую в косной лодке.
Такие же камешки и пески встретили меня на другом берегу реки, но я уже мало
обратил на них внимания,— у меня впереди рисовалась Сергеевка, моя Сергеевка,
с ее озером, рекою Белою и лесами. Я с нетерпением ожидал переправы нашей
кареты и повозки, с нетерпением смотрел, как выгружались, как закладывали
лошадей, и очень скучал белыми сыпучими песками, по которым надобно было
тащиться более версты. Наконец, мы въехали в урему, в зеленую, цветущую и
душистую урему. Веселое пение птичек неслось со всех сторон, но все голоса
покрывались свистами, раскатами и щелканьем соловьев. Около деревьев в цвету
вились и жужжали целые рои пчел, ос и шмелей. Боже мой, как было весело!
Следы недавно сбывшей воды везде были приметны: сухие прутья, солома,
облепленная илом и землей, уже высохшая от солнца, висели клочьями на
зеленых кустах; стволы огромных деревьев высоко от корней были плотно как
будто обмазаны также высохшею тиной и песком, который светился от солнечных
лучей. «Видишь, Серёжа, как высоко стояла полая вода,— говорил мне отец,—
смотри-ка, вон этот вяз точно в шапке от разного наноса; видно, он почти
весь стоял под водою». Многое в таком роде объяснял мне отец, а я в свою
очередь объяснял моей милой сестрице, хотя она тут же сидела и также слушала
отца. Скоро, и не один раз, подтвердилась справедливость его опасений; даже
и теперь во многих местах дорога была размыта, испорчена вешней водою, а в
некоторых долочках было так вязко от мокрой тины, что сильные наши лошади с
трудом вытаскивали карету. Наконец мы выбрались в чистое поле, побежали
шибкою рысью и часу в третьем приехали в так называемую Сергеевку. Подъезжая
к ней, мы опять попали в урёму, то есть в поёмное место, поросшее редкими
кустами и деревьями, избитое множеством средних и маленьких озер, уже
обраставших зелеными камышами; это была пойма той же реки Белой, протекавшей
в версте от Сергеевки и заливавшей весной эту низменную полосу земли. Потом
мы поднялись на довольно крутой пригорок, на ровной поверхности которого
стояло несколько новых и старых недостроенных изб; налево виднелись длинная
полоса воды, озеро Киишки и противоположный берег, довольно возвышенный, а
прямо против нас лежала разбросанная большая татарская деревня так
называемых «мещеряков». Направо зеленела и сверкала, как стеклами, своими
озерами пойма реки Белой, которую мы сейчас переехали поперек. Мы повернули
несколько вправо и въехали в нашу усадьбу, обгороженную свежим зеленым
плетнем. Усадьба состояла из двух изб: новой и старой, соединенных сенями;
недалеко от них находилась людская изба, еще не покрытая; остальную часть
двора занимала длинная соломенная поветь вместо сарая для кареты и вместо
конюшни для лошадей; вместо крыльца к нашим сеням положены были два камня,
один на другой; в новой избе не было ни дверей, ни оконных рам, а прорублены
только отверстия для них. Мать была не совсем довольна и выговаривала отцу,
но мне все нравилось гораздо более, чем наш городской дом в Уфе. Отец
уверял, что рамы привезут завтра и без косяков, которые еще не готовы,
приколотят снаружи, а вместо дверей покуда советовал повесить ковер. Стали
раскладываться и устраиваться: стулья, кровати и столы были привезены
заранее. Мы скоро сели обедать. Кушанье, приготовленное также заранее на
тагане в яме, вырытой возле забора, показалось нам очень вкусным. В этой яме
хотели сбить из глины летнюю кухонную печь. Мать успокоилась, развеселилась
и отпустила меня с отцом на озеро, к которому стремились все мои мысли и
желания; Евсеич пошел с нами, держа в руках приготовленные удочки; мать
смеялась, глядя на нас, и весело сказала: «Окон и дверей нет, а удочки у вас
готовы». Я от радости ног под собой не слыхал: не шел, а бежал вприпрыжку,
так что надо было меня держать за руки. Вот оно, наконец, мое давно желанное
и жданное великолепное озеро, в самом деле великолепное! Озеро Киишки
тянулось разными изгибами, затонами и плесами версты на три; ширина его была
очень неровная: иногда сажен семьдесят, а иногда полверсты. Противоположный
берег представлял лесистую возвышенность, спускавшуюся к воде пологим
скатом; налево озеро оканчивалось очень близко узким рукавом, посредством
которого весной, в полую воду, заливалась в него река Белая; направо за
изгибом не видно было конца озера, по которому, в полуверсте от нашей
усадьбы, была поселена очень большая мещеряцкая деревня, о которой я уже
говорил, называвшаяся по озеру также Киишки. Разумеется, русские звали ее, и
озеро, и вновь поселенную русскую деревушку Сергеевку просто «Кишки»— и к
озеру очень шло это название, вполне обозначавшее его длинное, искривленное
протяжение. Чистая прозрачная вода, местами очень глубокая, белое песчаное
дно, разнообразное чернолесье, отражавшееся в воде как в зеркале и обросшее
зелеными береговыми травами, — все вместе было так хорошо, что не только я,
но и отец мой, и Евсеич пришли в восхищение. Особенно был красив и живописен
наш берег, покрытый молодой травой и луговыми цветами, то есть часть берега,
не заселенная и потому ничем не загаженная; по берегу росло десятка два
дубов необыкновенной вышины и толщины. Когда мы подошли к воде, то увидали
новые широкие мостки и привязанную к ним новую лодку: новые причины к новому
удовольствию. Отец мой позаботился об этом заранее, потому что вода была
мелка и без мостков удить было бы невозможно; да и для мытья белья оказались
они очень пригодны, лодка же назначалась для ловли рыбы сетьми и неводом.
Сзади мостков стоял огромнейший дуб в несколько обхватов толщиной; возле
него рос некогда другой дуб, от которого остался только довольно высокий
пень, гораздо толще стоявшего дуба; из любопытства мы влезли на этот
громадный пень все трое, и, конечно, занимали только маленький краешек. Отец
мой говорил, что на нем могли бы усесться человек двадцать. Он указал мне
зарубки на дубовом пне и на растущем дубу и сказал, что башкирцы, настоящие
владельцы земли, каждые сто лет кладут такие заметки на больших дубах, в чем
многие старики его уверяли; таких зарубок на пне было только две, а на
растущем дубу пять, а как пень был гораздо толще и, следовательно, старее
растущего дуба, то и было очевидно, что остальные зарубки находились на
отрубленном стволе дерева. Отец прибавил, что он видел дуб несравненно толще
и что на нем находилось двенадцать заметок, следовательно, ему было 1200
лет. Не знаю, до какой степени были справедливы рассказы башкирцев, но отец
им верил, и они казались мне тогда истиной, не подверженной сомнению.
Озеро было полно всякой рыбы, и очень крупной; в половодье она заходила из
реки Белой, а когда вода начинала убывать, то мещеряки перегораживали
плетнем узкий и неглубокий проток, которым соединялось озеро с рекой, и вся
рыба оставалась до будущей весны в озере. Огромные щуки и жерехи то и дело
выскакивали из воды, гоняясь за мелкой рыбою, которая металась и плавилась
беспрестанно. Местами около берегов и трав рябила вода от рыбьих стай,
которые теснились на мель и даже выскакивали на береговую траву: мне
сказали, что это рыба мечет икру. Всего более водилось в озере окуней и
особенно лещей. Мы размотали удочки и принялись удить.
+ + +
...Началось деятельное устройство нашей полукочевой жизни, а главное —
устройство особенного приготовления и правильного употребления кумыса. Для
этого надобно было повидаться с башкирским кантонным старшиной Мавлютом
Исеичем (так звали его в глаза, а за глаза— Мавлюткой), который был один из
вотчинников, продавших нам Сергеевскую пустошь. Он жил если не в деревне
Киишки, то где-нибудь очень близко, потому что отец посылал его звать к
себе, и посланный воротился очень скоро с ответом, что Мавлютка сейчас
будет. В самом деле, едва мы успели напиться чаю, как перед нашими воротами
показалась какая-то странная громада верхом на лошади. Громада подъехала к
забору, весьма свободно сошла с лошади, привязала ее к плетню и ввалилась к
нам на двор. Мы сидели на своем крыльце: отец пошел навстречу гостю,
протянул ему руку и сказал: «Салям маликум, Мавлют Исеич». Я разинул рот от
изумления. Передо мной стоял великан необыкновенной толщины; в нем было
двенадцать вершков роста и двенадцать пуд веса, как я после узнал; он был
одет в казакин и в широчайшие плисовые шальвары; на макушке толстой головы
чуть держалась вышитая золотом запачканная тюбетейка; шеи у него не было;
голова с подзобком плотно лежала на широких плечах; огромная саблища
тащилась по земле — и я почувствовал невольный страх: мне сейчас
представилось, что таков должен быть коварный Тиссаферн, предводитель
персидских войск, сражавшихся против младшего Кира. И не замедлил сообщить
свою догадку на ухо своей сестрице и потом матери, и она очень смеялась,
отчего и страх мой прошел. Мавлютке принесли скамейку, на которой он с
трудом уселся; ему подали чаю, и он выпил множество чашек. Дело о
приготовлении кумыса для матери, о чем она сама просила, устроилось весьма
удобно и легко. Одна из семи жен Мавлютки была тут же заочно назначена в эту
должность: она всякий день должна была приходить к нам и приводить с собой
кобылу, чтоб, надоив нужное количество молока, заквасить его в нашей посуде,
на глазах у моей матери, которая имела непреодолимое отвращение к нечистоте
и неопрятности в приготовлении кумыса. Условились в цене и дали вперед
сколько-то денег Мавлютке, чему он, как я заметил, очень обрадовался. Я не
мог удержаться от смеха, слушая, как моя маменька старалась подражать
Мавлютке, коверкая свои слова. После этого начался разговор у моего отца с
кантонным старшиной, обративший на себя все мое внимание: из этого разговора
я узнал, что отец мой купил такую землю, которую другие башкирцы, а не те, у
которых мы ее купили, называли своею, что с этой земли надобно было согнать
две деревни, что когда будет межеванье, то все объявят спор и что надобно
поскорее переселить на нее несколько наших крестьян. «Землимир, землимир
скоро тащи, бачка Алексей Степаныч,— говорил визгливым голосом Мавлютка,—
землимир вся кончал; белым столбам надо; я сам гуляет на мижа». Мавлют Исеич
ушел, отвязал свою лошадь, про которую между прочим сказал, что она « в
целый табун одна его таскай», надел свой войлочный вострый колпак, очень
легко сел верхом, махнул своей страшной плетью и поехал домой. Я недаром
обратил внимание на разговор башкирского старшины с моим отцом. Оставшись
наедине с матерью, он говорил об этом с невеселым лицом и с озабоченным
видом: тут я узнал, что матери и прежде не нравилась эта покупка, потому что
приобретаемая земля не могла скоро и без больших затруднений достаться нам
во владение: она была заселена двумя деревнями припущенников, «Киишками» и
«Старым Тимкиным», которые жили, правда, по просроченным договорам, но
которых свести на другие, казенные земли было очень трудно; всего же более
не нравилось моей матери то, что сами продавцы башкирцы ссорились между
собою и всякий называл себя настоящим хозяином, а другого обманщиком. Теперь
я рассказал об этом так, как узнал впоследствии; тогда же я не мог понять
настоящего дела, а только испугался, что тут будут спорить, ссориться, а
может быть, и драться. Сердце мое почувствовало, что моя Сергеевка не
крепкая, и я не ошибся.
С каждым днем все более и более устраивалась наша полукочевая жизнь. Оконные
рамы привезли и, за неимением косяков, приколотили их снаружи довольно
плотно; но дверей не было, и их продолжали заменять коврами, что мне
казалось нисколько не хуже дверей. На дворе поставили большую новую белую
калмыцкую кибитку; боковые войлочные стенки можно было поднять, и решетчатая
кибитка тогда представляла вид огромного зонтика с круглым отверстием
вверху. Мы обыкновенно там обедали, чтоб в наших комнатах было меньше мух, и
обыкновенно поднимали одну сторону кибитки, ту, которая находилась в тени.—
Кумыс приготовлялся отлично хорошо, и мать находила его уже не так
противным, как прежде, но я чувствовал к нему непреодолимое отвращение, по
крайней мере уверял в том и себя и других, и хотя матери моей очень
хотелось, чтобы я пил кумыс, потому что я был худ и все думали, что от него
потолстею, но я отбился. Сестрица тоже не могла его переносить; он
решительно был ей вреден. По совести говоря, я думаю, что мог привыкнуть к
кумысу, но я боялся, чтоб его употребление и утренние прогулки, неразлучные
с ним, не отняли у меня лучшего времени для уженья. Охота удить рыбу час от
часу более овладевала мной; я только из боязни, чтоб мать не запретила мне
сидеть с удочкой на озере, с насильственным прилежанием занимался чтением,
письмом и двумя первыми правилами арифметики, чему учил меня отец. Я помню,
что притворялся довольно искусно и часто пускался в длинные рассуждения с
матерью, тогда как на уме моем только и было, как бы поскорее убежать с
удочкой на мостки, когда каждая минута промедления была для меня тяжким
испытанием. Рыба клевала чудесно; неудач не было, или они состояли только в
том, что иногда крупной рыбы попадалось меньше. Милая моя сестрица, ходившая
также иногда со своей Парашей на уженье, не находила в этом никакого
удовольствия, и комары скоро прогоняли ее домой. Наконец стали приезжать к
нам гости. Один раз съехались охотники до рыбной ловли: добрейший генерал
Мансуров, страстный охотник до всех охот, с женой, и Иван Николаич Булгаков,
также с женой. Затеяли большую рыбную ловлю неводом; достали невод, кажется,
у башкирцев, а также еще несколько лодок; две из них побольше связали
вместе, покрыли поперек досками, приколотили доски гвоздями и таким образом
сделали маленький паром с лавочкой, на которой могли сидеть дамы.
+ + +
...Обратный путь наш в Уфу совершился скорее и спокойнее: морозы стояли
умеренные, окошечки в нашем возке не совсем запушались снегом, и возок не
опрокидывался.
В Уфе все знакомые наши друзья очень нам обрадовались. Круг знакомых наших,
особенно знакомых с нами детей, значительно уменьшился. Крестный отец мой,
Д. Б. Мертваго, который хотя никогда не бывал со мной ласков, но зато
никогда и не дразнил меня, — давно уже уехал в Петербург. Княжевичи со
своими детьми переехали в Казань; Мансуровы также со всеми детьми куда-то
уехали...
+ + +
...С самого возвращения в Уфу я начал вслушиваться и замечать, что у
матери с отцом происходили споры, даже неприятные. Дело шло о том, что отец
хотел в точности исполнить обещанье, данное им своей матери: выйти
немедленно в отставку, переехать в деревню, избавить свою мать от всех забот
по хозяйству и успокоить ее старость. Переезд в деревню и занятия хозяйством
он считал необходимым даже и тогда, когда бы бабушка согласилась жить с нами
в городе, о чем она и слышать не хотела. Он говорил, что «без хозяина скоро
портится порядок и что через несколько лет не узнаешь ни Старого, ни Нового
Багрова». На все эти причины, о которых отец мой говаривал много, долго и
тихо, мать возражала с горячностью, что «деревенская жизнь ей противна,
Багрово особенно не нравится и вредно для здоровья, что ее не любят в
семействе и что ее ожидают там беспрестанные неудовольствия». Впрочем, была
еще важная причина для переезда в деревню: письмо, полученное от Прасковьи
Ивановны Куролесовой. Узнав о смерти моего дедушки, которого она называла
вторым отцом и благодетелем, Прасковья Ивановна писала к моему отцу, что
«нечего ему жить по пустякам в Уфе, служить в каком-то суде из трехсот
рублей жалованья, что гораздо будет выгоднее заняться своим собственным
хозяйством, да и ей, старухе, помогать по ее хозяйству. Оно же и кстати,
потому что Старое Багрово всего пятьдесят верст от Чурасова, где она
постоянно живет». В заключение письма она писала, что «хочет узнать в лицо
Софью Николавну, с которой давно бы пора ее познакомить: да и наследников
своих она желает видеть».
+ + +
...Весна пришла, и вместо радостного чувства я испытывал грусть. Что мне
было до того, что с гор бежали ручьи, что показались проталины в саду и
около церкви, что опять прошла Белая и опять широко разлились ее воды! Не
увижу я Сергеевки и ее чудного озера, ее высоких дубов, не стану удить с
мостков вместе с Евсеичем, и не будет лежать на берегу Сурка, растянувшись
на солнышке! — Вдруг узнаю я, что отец едет в Сергеевку. Кажется, это было
давно решено, и только скрывали от меня, чтобы не дразнить понапрасну
ребенка. В Сергеевку приехал землемер Ярцев, чтоб обмежевать нашу землю.
Межеванье обещали покончить в две недели, потому что моему отцу нужно было
воротиться к тому времени, когда у меня будет новая сестрица или братец.
Проситься с отцом я не смел. Дороги были еще не проездные, Белая в полном
разливе, и мой отец должен был проехать на лодке десять верст, а потом
добраться до Сергеевки кое-как в телеге. Мать очень беспокоилась об отце,
что и во мне возбудило беспокойство. Мать боялась также, чтоб межеванье не
задержало отца, и, чтоб ее успокоить, он дал ей слово, что если в две недели
межеванье не будет кончено, то он все бросит, оставит там поверенным
кого-нибудь, хотя Федора, мужа Параши, а сам приедет к нам, в Уфу. Мать не
могла удержаться от слез, прощаясь с моим отцом, а я разревелся. Мне было
грустно расстаться с ним, и страшно за него, и горько, что не увижу
Сергеевки и не поужу на озере. Напрасно Евсеич утешал меня тем, что теперь
нельзя гулять, потому что грязно; нельзя удить, потому что вода в озере
мутная,— я плохо ему верил: я уже не один раз замечал, что для моего
успокоенья говорили неправду. Медленно тянулись эти две недели. Хотя я, живя
в городе, мало проводил времени с отцом, потому что поутру он обыкновенно
уезжал к должности, а вечером — в гости или сам принимал гостей, но мне было
скучно и грустно без него. Отец не успел мне рассказать хорошенько, что
значит межевать землю, и я для дополнения сведений, расспросив мать, а потом
Евсеича, в чем состоит межеванье, и не узнав от них почти ничего нового (они
сами ничего не знали), составил себе, однако, кое-какое понятие об этом
деле, которое казалось мне важным и торжественным. Впрочем, я знал внешнюю
обстановку межеванья: вехи, колья, цепь и понятых. Воображение рисовало мне
разные картины, и я бродил мысленно вместе с моим отцом по полям и лесам
Сергеевской дачи. Очень странно, что составленное мною понятие о межеванье
довольно близко подходило к действительности: впоследствии я убедился в этом
на опыте; даже мысль дитяти о важности и какой-то торжественности межеванья
всякий раз приходила мне в голову, когда я шел или ехал за астролябией,
благоговейно несомой крестьянином, тогда как другие тащили цепь и втыкали
колья через каждые десять сажен; настоящего же дела, то есть измерения земли
и съемки ее на план, разумеется, я тогда не понимал, как и все меня
окружавшие.
Отец сдержал свое слово: ровно через две недели он воротился в Уфу.
Возвращаться было гораздо труднее, чем ехать на межеванье. Вода начала
сильно сбывать, во многих местах земля оголилась, и все десять верст,
которые отец спокойно проехал туда на лодке, надобно было проехать в
обратный путь уже верхом. Воды еще много стояло в долочках и ложбинках, и
она доставала иногда по брюхо лошади. Отец приехал, весь с ног до головы
забрызганный грязью. Мать и мы с сестрицей очень ему обрадовались, но отец
был невесел; многие башкирцы и все припущенники, то есть жители «Киишек» и
«Тимкина», объявили спор и дачу обошли черными (спорными) столбами:
обмежеванье белыми столбами означало бесспорность владения. Рассказав все
подробно, отец прибавил: «Ну, Сережа, Сергеевская дача пойдет в долгий ящик
и не скоро достанется тебе; напрасно мы поторопились перевести туда
крестьян». Я огорчился, потому что мне очень было приятно иметь
собственность, и я с тех пор перестал уже говорить с наслаждением при всяком
удобном случае: «Моя Сергеевка».
——————
Составитель М. Г. Рахимкулов.
Здесь читайте:
Аксаков Сергей
Тимофеевич (1791 - 1859)
Вы можете высказать свое суждение об этом материале в
ФОРУМЕ ХРОНОСа
|