Родственные проекты:

|
Благодарение
Поэт о поэтах: Портреты писателей, очерки, литературная критика
Благодарение. Поэт о поэтах: Портреты писателей, очерки, литературная
критика. – 304 стр. / Вст. ст. Евг. Осетрова. М., 1986.

Пока мы дышим
Пока мы живы, уверяют нас мудрецы, мертвых среди нас нет. Одиноко горящий на
холме обелиск, выплывший из голубого заревого тумана, многое разбудит в сердце у
человека и поведает ему немало:
Что мне, солдату, осталось
после второй мировой?
Ночи траншейной усталость,
холод зари фронтовой.
Памяти тесная полка –
перебирай до утра.
Ноющий след от осколка
после второго ребра.
Все — просто, конкретно, зримо. Но поэт глядит на жизнь мудро, а не
задорно-простовато, так сказать, с ветеранской высоты, глядит, как положено
глядеть человеку, испытавшему и не забывшему гарь и грохот смертельных битв.
Мальчишка — и уже на войне, политрук роты. Уже — обстрелян, ранен.
Виктор Кочетков
родился в 1923 году. В начале войны 1941 года ему было всего семнадцать лет с
небольшим...
Виктор Кочетков щедро отмечен озарением, и его воображение очень богато,
очень сильно. Он видит и строит образ независимо от “подручных инструментов”,
довольно примелькавшихся и часто употребляемых другими. Живет в поэте какая-то
неуловимо щемящая тревога, не дающая ему охладеть душой, притереться к бытовой
серой массовости ощущений, понятий и вкусов.
И дело тут не в том, что Кочетков пережил войну, не в том, что ему пришлось
много трудиться, учиться и видеть края и веси нашей Родины, а в той струне,
святой и звонкой, завещанной ему призванием. Вот эта струна и будоражит ею
душевный свет, его душевную чуткость:
Отсветы волжской излуки,
месяц над старой вербой.
Горькая мука разлуки
с юностью, с трудной судьбой.
Главная ценность человека и состоит в той памяти, за которой он есть, плохой или
хороший, сытый или голодный, но он там, и она, эта память, растит его, умудряет,
а если он виноват перед людьми — память гнетет его, судит. Конечно, и память
человека зависит от глубины его разума, от меры его совести. Память человека —
это то, что оставляет нам опыт всей нашей деятельности, всех наших радостных
достижений и грустных просчетов. Память твоя — принадлежность к прошедшему, твоя
причастность к нему, печалит она тебя или нет, но в той принадлежности, в той
причастности ты весь, до капельки, и лишь оттуда, с вершины своей памяти, можно
разглядеть грядущий час, будущий День:
Предзорье на Мамаевом кургане.
Внизу река тускнеет, как броня.
Прошедшее
Незримыми кругами
Расходится от Вечного огня.
Но такое оно, прошедшее, явное, незабытое, действующее на твое самосознание, на
твое поведение, что ты не замечаешь, как повсюду руководствуешься этим прошедшим
в нынешней заботе. Оно — порог, от которого ты уходишь в завтра:
Расходится
В безмолвье,
Круг за кругом,
Тревожа
Настороженную тьму.
Все дальше-дальше
К тем январским вьюгам,
Все ближе-ближе
К сердцу моему.
Способность поэта видеть и чувствовать незаурядно — счастье, музыка души. Если
стучатся в его душу черные минуты, то, как правило, поэт передает свое смятение
на высокой ноте, на высоком напряжении сил. За его невеселыми раздумьями стоят
твои, может быть, даже более тревожные и широкие раздумья. А за его ощущениями
утраты, тоски — твои ощущения, опять чего-то более родного, более понятного.
Ведь от незаурядной способности поэта пронзать взглядом наш мир зависит и твоя
способность осваивать и принимать на свой “нерв” и еле уловимые, и громокипящие
движения жизни. И только в них, разнообразных и разноязыких движениях,— смысл,
тайна, разгадка самого себя и того, что вокруг.
Нет в природе ничего лишнего, и кажущееся порой ее несовершенство — наше
незнание природы. И человеку объяснить свою “смуту” иногда бывает не так просто,
но “разговаривать” с ней, носить ее у сердца — уже попытка осмыслить и принять
ее:
Камышники зашлись от дрожи
Заморщинила стержень зыбь.
На пустынной реке Сереже
Горька плачет седая выпь.
Поэт тонко передает свои ощущения, и тревожно заволновалась твоя душа. Что это?
О чем это? И почему такая тоска ввинчивается в тебя? Разве нет от нее защиты?..
Проносятся годы. Быстро сменяются картины, образы, состояния, и вот она —
обжигающая истина:
Это все-таки что-то значит,
Если в мирной вечерней мгле
Даже птицы по-вдовьи плачут
На славянской моей земле…
На качестве слова, посвященного предкам, посвященного Родине, материнской земле,
нетрудно проявить и увидеть качество человеческой натуры автора, уровень его
таланта.
Но прежде всего необходимо и признать право каждого пишущего на большое чувство
любви ко всему тому, что славит нас, возвышает, оттачивает. Необходимо и умение
понимать такие порывы, давать им правильную оценку, отрицательную или
положительную, но в любом случае правильную. А не то опять услышим назойливое:
ах, опять — о Родине, о витязях, о могилах! Короче говоря, не надо восторгаться
плохими стихами, адресованными святыням, но и не надо спешить охаивать то, что
возвращает твое чувство, твою память к немеркнущему, к вечному. И не надо
забывать: один человек в красно-зеленой январской сойке увидит жар-птицу, а
другой — сварит из нее суп...
Бытовщина, практицизм, примитивизм воображения порой иному так застят очи, что и
звезды-то в небесах покажутся ему электронными лампами:
Прожил я без вымарок
Вот уже подпета.
Знай же, хмурый выморок,
Жизнь моя чиста.
Жизнь моя чиста. Так может сказать поэт, чья душевная устремленность, чье
неиссякаемое желание найти и уберечь красоту — глубоко ощутимо там, где день и
ночь стучит маленький, крылатый колокол человечества — сердце...
+ + +
Чуткость, подвижность души поэта — это те туманные озера, те грозовые вихри, в
которых родится и набирает скорость слово. И Виктору Кочеткову дорого состояние
появления образа, момент “замкнутости”, миг единения действия и рисунка:
И так кругом бестрепетно и тихо,
Так осторожно травы шелестят,
Что слышно, как бормочет аистиха,
Укладывая на ночь аистят.
Проходя памятью по дорогам, по рубежам труда и славы Отчизны, ни один поэт не
смог и не сможет миновать троп и вех своего поколения, ибо он вместе с ним вырос
и вместе с ним ушел искать судьбу. Да, наверное, и личную судьбу любого
человека, любого поэта или ученого творит и лепит не только сам человек, сам
поэт или ученый, а тысячи, миллионы людей — сверстников, старших, младших, но
живущих с тобой в едином времени, действующих в едином с тобой пути. Твои ошибки
можно найти в том, кто идет с тобою рядом, твои удачи легко обнаружить в
сотоварищах по ежедневному долгу перед страной, перед жизнью.
Болью, стоном ворвется в тебя далекое, свершившееся и ставшее ныне скорбным и
гордым бессмертием:
Не мы судьбу,
Судьба нас выбирала.
Был выбор у судьбы-войны
Недолгий,
Вот три приметы
Нашего Вчера:
1
Крестьянский дом на берегу Урала.
2
Окоп стрелковый да блиндаж над Волгой.
3
И обелиск на берегу Днепра.
Что еще?..
И ничего не скажешь, и примешь, и возьмешь их в путь, эти раскаленные чувством
строки, возьмешь и передашь — детям! Виктор Кочетков знает цену работе не только
над словом, но и над формой, он любит новизну замысла, новизну воплощения этого
замысла, необычайность, достоверность и естественность общего произведения, его
нескучную завершенность. В своих приемах работы над стихами, в своих поисках и
находках Виктор Кочетков очень современен: он взял все, что дало не только
предшествующее ему поколение поэтов, но и то, что дало поколение, которое рядом
с ним ищет в творчестве свое слово, свою окраску, свой ритм.
Вместе с тем — поэт мудро традиционен. В его большом творчестве не найдешь,
пожалуй, такого размера, такого “мелодического” такта, который показался бы тебе
странным и чужим. Нет, его поиски — это всегда самостоятельный ход слова, но из
всей нашей раздольной русской поэзии, нашей словесной культуры. Он ничего
чуждого не принимает и не перенимает: слово не должно выглядеть “не тем”, “не на
своем месте”, должно быть умение и спокойная убежденность мастера в работе над
словом. Броскость — хорошее дело, если она, эта броскость, уместна и дополняет,
дорисовывает твой замысел, уточняет его. Но если эта броскость — лишь эффект,
жест, то, разумеется, восторгаться ею нет причины:
…И стала вдруг мне истина являться
И пламя себялюбья убавлять.
И понял я —
Искусство удивляться
Куда мудрей искусства удивлять.
В настоящее время в нашей современной поэзии четко наметилась тенденция к
спокойно-исповедальному стиху, к чистосердечному разговору, без окрика, без
трибуны, без пафоса... Виктор Кочетков как раз из таких поэтов, которые не любят
читать свои стихи со сцены, а предпочитают, чтобы читатель сам посидел, подумал
над их книгами. Хорошо ли это? Конечно. Но для каждого ли поэта подходит такая
мерка? Конечно же, нет. Поэт, чувствующий необходимость громко бросать свои
строфы в зал, не согласится быть тихим и внешне незаметным, не согласится мирно
ждать, когда его прочтет благодарный читатель. Поэт найдет случай — сделает то,
что нужно его слову.
Это — поэт! Но критик не имеет права утверждать собственную или чужую
субъективность, односторонность, не имеет права объявлять то или это направление
— единственным, лучшим и т. д. Ведь каждый серьезный поэт — серьезный мир,
серьезные его очертания. О трудной, одинокой и кропотливой работе поэта Виктор
Кочетков сказал:
Давным-давно
В душе покоя нету
На перепутье всех тревог стою.
Как будто
Передали всю планету
Под личную ответственность мою.
Все у поэта — нужное, большое. Умение думать и находить в этих думах сокровенное
— счастливое приближение к истине, к мастерству, к достижению дели, это —
призвание. А есть успокоение? В прошедшем ли оно? В будущем ли? Или нет его для
тебя? Нет его и для другого? Обязан ли и может ли поэт планомерно выражать
переживаемое, ежедневное, что он берет на душу? Нет, не может. И не нужно ему
это. Но подспудно отвечать за все, что видел, что сделал, подспудно страдать или
радоваться — удел поэта. И тихого времени для поэта нет. И громкого — нет. Во
все времена, громкие или тихие, поэт успевает взять в свое слово то, что требует
его интуиция, что диктует ему неукоснительная совесть памяти.
И можно понять, зачем Блоку такая кручина, зачем ему такая неизбежность
предсмертной ясности, когда он еще молод, когда силы его круты и голос его
далеко слышен:
Всё на земле умрет - и мать, и младость,
Жена изменит, и покинет друг.
Но ты учись вкушать иную сладость,
Глядясь в холодный и полярный круг.
Бери свой челн, плыви на дальний полюс
В стенах из льда - и тихо забывай,
Как там любили, гибли и боролись...
И забывай страстей бывалый край.
И к вздрагиваньям медленного хлада
Усталую ты душу приучи,
Чтоб было здесь ей ничего не надо,
Когда оттуда ринутся лучи.
Поэт настоящий всегда как бы проверяет самого себя по своему же чувству, по
своему отношению к действительности, он глядит на себя как бы со стороны, боясь
или ошибиться в раздумьях над временем и жизнью, или ненароком взять чужое
ощущение времени и жизни... Вот и горит душа поэта, вот и светит трагическим
пламенем его звезда, его судьба.
У Виктора Кочеткова много таких стихотворений, через барьеры которых душа не
перелетит. Они, как замурованные мины, взорвут твой покой, ослепят и потрясут
тебя: все это — верное доказательство постоянной глубинной тревоги, которая
бессонно будоражит поэта, не дает ему утоления:
Отпусти мою память.
Сколько лет ты в плену ее держишь.
По ночам я опять холодею в траншейном аду.
Нет, с годами не стала ни ровнее, ни тверже
Та тропа, по которой
Я на встречу с тобою иду.
Полыхает в огне
Белокрышая станция Лиски;
И донская вода
Наплывает на взорванный лед.
И встают предо мною
Не гранитные обелиски,
А живые ровесники —
Молодой синеглазый народ.
Мальчишка, опаленный войной, упал он на землю, упал в честном бою, пришел в
сознание — за колючей проволокой. Немецкие холодные автоматы, направленные на
людей, собаки... А в памяти — размашистая удаль Урала, деревенька на Волге,
собственная юность, жизнь, родной дом, пол, на него ты впервые ступил; потолок —
до него ты впервые дотянулся ладонью.
Унизительные проверки. Унизительные дни, недели. И — побег! И — снова автоматы,
собаки, проволока! И — снова побег! И — снова перехват! И — снова перетряска
документов, биографий, дат, номеров. Пожилой, суховатый, рыжий, без бровей, без
глаз, без голоса — ч го-то скользкое, больное, беспощадно-липкое, наводящее
ужас. Поэт видел, как это что-то оживает перед вышестоящим, как оно лебезит,
извивается, не по возрасту семенит и угождает, тем и защищая свое лагерное
нутро, свое животно-присты-женное существование в мире зла и предательства. У
холуя— злоба холуя, у холуя — нравы холуя: выворачивает душу допросом,
прощупывает звериным оком.
Палачи эти никогда ничему не научатся. Их только виселица останавливает и
отрезвляет. Такие — без памяти, словно свинченные из автономных деталей роботы
Разве собирался убийца, затянувший петлю на шее Зои Космодемьянской, отвечать за
преступление? Нет, конечно! Но ведь был уличен, найден, приговорен.
Приговорил к отмщению поэт и этого негодяя. Поэт ничего не простит, ничего не
забудет, потому что прощать и забывать — преступно:
В похоронной команде,
Изъеденной вшою,
Штабелил мертвецов
Возле черного рва.
Мефистофелем юрким
Кружил над душою.
И — далее, еще осязаемее, еще доказательнее, еще прямее, чтобы нам знать их,
ненавидящих нас, нас — честных, умных, добрых:
Бил его до беспамятства
Гаутман Лотиц,
Шуцман
Звезды ему выжигал на спине.
Возмездием палачам пришел в мир Муса Джалиль, вечным возмездием звучит ныне ею
суровый голос. Возмездие, святую правду и святое право не умолчать о злодеяниях
несет голос Виктора Кочеткова. Народы с преклонением чтят имена своих героев, но
и передают от поколения поколению черный “список” своих палачей...
Змея никогда не запоет соловьем — она рождена шипеть. А совестливая, жадная до
красоты и свежести, душа поэта отдохнет, выпрямится и улыбнется ветру, полю,
грому:
Долго бор ветлужский окал,
Перекатывал грома.
Дождевые капли с окон
Часто смаргивала тьма.
А когда к исходу ночи
Откричали петухи,
Стало слышно, как лопочут
За отрадой лопухи.
Гром ворчал все глуше, глуше.
Стала радужной сосна.
И зачмокали калужи,
Как телята после сна.
Виктор Кочетков родился в большой трудовой семье. Отец работал денно и нощно —
надо кормить семью, мать — вечно в хлопотах и заботах о детях. Родители сумели,
несмотря на тяжелые годы, выучить, воспитать детей. Семья несколько покочевала в
поисках более надежного быта. Жила на берегу Волги, потом — в Башкирии, в
Молдавии.
Не случайно в стихах Виктора Кочеткова широко даны и волжские плесы, и уральские
степи, и древние молдавские кручи.
+ + +
Вернувшись с войны, Виктор Кочетков поступил на учебу. После окончания
университета — учительствовал, занимался журналистикой. Много и плодотворно
работал над переводами. Им написаны поэтические книги, изданные в Кишиневе,
Саратове, Москве. Им же написаны десятки статей о творчестве поэтов и прозаиков,
его современников, переведены на русский язык десятки стихотворений, повести,
романы наших братьев — молдаван, татар, якутов, чувашей. Поэт уверенно работает.
Резкий, беспощадный ради правды, Виктор Кочетков — прекрасный мастер слова,
зрелый, умный, горячий:
Слова...
Они тоже
Несхожи судьбой —
По-разному жили
И разное славили.
Одни
Обездоленных
Звали на бой,
Другие
Опять на колени
Их ставили.
Нет в творчестве поэта Виктора Кочеткова этакой задорной розовости, нет и
наигранной грусти. Он всюду в слове стремится быть на высоте искреннего,
подлинного Чувства, разговаривать языком давнего знакомого, дорогого соседа,
таким языком, который тебя располагает, увлекает и ведет, повествуя.
Большой мужской такт, осторожность, нежность проявляет поэт в произведениях, где
пробуждается святое чувство — любовь, где вырисовывается образ близкой и
красивой женской души и памятью уносит тебя в недалекое, грустное, милое и
дорогое:
С гиком летели в сверкающей пыли
Белой зимою на белом коне.
Были когда-то...
Были, да сплыли…
Даже не сплыли— сгорели в огне.
Вечерам выдь в луговое поречье,
Чуешь — печаль затаилась во мгле.
Это любовь дожидается встречи
С милым, которого нет на земле.
Ходят по лугу любовь-неутеха,
В черном платке, ниспадающем с плеч.
Ловит губами забытое эхо,
Давнее эхо полуночных встреч.
Двадцать миллионов — погибших на войне! Где они, невесты, молодые вдовы,
скорбные матери? Они тут — в этих просторах, в этих грозах весны, в этих вьюгах.
Говорят же в народе — среди живых не бывает мертвых... Вот и для каждой невесты,
для каждой вдовы, для каждой матери — есть тот единственный и вечно живой!..
Поэт уходит горьким взором далеко в жизнь. Ему необходимо понять ее трагические
переломы, ее мятежное буйство и непокой. Не только война осела в сердце певца,
не только имена убитых друзей горят в памяти, но есть в этом суровом что-то еще,
чему нет пока названия и нет объяснения, как взрыв света, как действующее
наитие:
Кружит коршун над остылой пригарью,
Степь черна до самой до Сулы.
И глазами горестными Игоря
Смотрит Русь из порубежной мглы.
Поэт постоянно ищет образ, тайну образа, его существо, его плоть. Иногда гонясь
за рельефностью, за выпуклостью картины, он на миг забывается, растворяется в
чисто воображаемом мире, воображаемой музыке стиха, который не подкреплен еще
обыденной, но незыблемой конкретностью. Тогда получается облегченное, выспреннее
скольжение, так сказать, движение, показ не главных фигур, — и, как правило, от
таких слов, от таких строф вроде бы самоотталкивается глубина, содержание,
основа:
Грифелем мягким вычеркивая
Песчаные берега,
Тени ложатся вечерние
На стынущие стога.
Размыта закраиной розовой
Вечерних небес синева,
И смотрит из рощи березовой
Апостольским оком сова.
Тут мне, например, видна лишь “апостольская сова” да чуть — стынущие стога. В
целом же стихотворение это “смонтировано”, а не рождено стихийной силой,
огненным чувством. Не заложил в это стихотворение поэт своего “настроя”, своего
ритма.
+ + +
А Маяковский говорил: “Старание организовать движение, организовать звуки вокруг
себя, находя ихний характер, ихние особенности, это одна из главных постоянных
поэтических работ — ритмические заготовки. Я не знаю, существует ли ритм вне
меня или только во мне, скорей всего — во мне. Но для его пробуждения должен
быть толчок, — так он неизвестного скрипа начинает гудеть в брюхе у рояля, так,
грозя обвалиться, раскачивается мост от одновременного муравьиного шага...”
Виктору Кочеткову присуща музыкальность ритма:
Только ветки под ветром качаются,
Только тучи над кручей встречаются.
Утром встретятся, солнцем осветятся.
В водах быстрого Прута отметятся.
И уходят долиною синею:
Та – в Россию, а эта – в Румынию.
И опять только веток качание
Да степных буераков молчание.
Удаются поэту и малые по форме, но большие по нагруженности стихи. Они, скорее,
похожи на выводы, на лаконичные ответы в полемике, в приподнятом, на тонах,
разговоре. Почти все они касаются личного поэта, его постоянных раздумий. Такие
стихи, вероятно, рождаются после неоднократных возвращений мысли к одному и тому
же факту, тревоге, неясности и, как правило, разрешаются окончательным
отношением автора к событию. Часто, например, он берет в - качестве предмета для
размышления или приговора — свое ремесло, свое наболевшее:
Нынче критики судят умно.
На филиппики не скупятся.
И ярлык подобрали давно
И словечко нашлось — «русопятство».
И уже за идейный порок
Выдают в обличительном рвенье,
Коль, шагнув черев отчий порог,
Запечалишься ты на мгновенье.
Виктор Кочетков не меняет убеждений, приобретенных своей биографией, жизненным и
творческим опытом. Он расширяет их рамки и возможности, обогащает эти убеждения
постоянно действующей жизнью, наблюдениями и собственным творческим ростом. У
него есть не только своя линия, но и своя огромная поэтическая страна, которую
ему надо оберегать, по-хозяйски наследовать...
И душа поэта не выдерживает несправедливости, не может согласиться с
необдуманной поспешностью и резкостью суждений, когда речь идет о подрастающем
литературном поколении, о тех, кто завтра заменит его самого, о тех, кто ныне
иной раз незаслуженно подвергается ниспровержению:
Что ни слово — разнос,
Что ни строчка — претензия,
Так и брызжет перо,
Так и рубит рука.
Не рецензия, а лицензия
На отстрел поэтического молодняка.
К сожалению, нередко бывает так: берется писать рецензию человек, совершенно
непригодный для этого. Недавно я прочитал такого — только он не ругал, а хвалил:
хвалил безапелляционно весьма посредственные переводы. Но хвалил как-то
нервозно, видимо, стыдился: “Изумительно!.. Тонкая вязь!.. Стихи великолепны!..
Многие из них просятся на музыку!..” И, самое печальное, что вся эта пустая
трескотня напечатана!
Виктор Кочетков хорошо понимает, что литератор обязан быть: бескомпромиссно
строгим и не давать спуску ни клевете, ни заушательству, ни “великодушной”
беспринципности:
Нет вовсе не хулы, ни похвалы
В словах Ренара: гении — волы.
Теперь, когда заштамповали речь,
Нужны усилья подлинно воловьи,
Чтоб самородок истины извлечь
Из-под пустой породы суесловья.
Если горит в груди страсть рассказать, поведать, если ты потрясен чем-то так,
что кричит все твое существо, если язык твой пламенно честный,— то голос твой
будет услышан. Опасность для отечественной поэзии сейчас в том, что пришло много
“поэтов” с приземленными порывами. Люди эти пишут о чернильнице, о тумбочке, о
котлете, о канаве, они будто отсечены от гордо и могуче бурлящего мира, где
каждый отважный поэт найдет себе достойное место… Это — тихая мышиная столовая,
а не творчество. Узкий быт, узкие интересы, единоличная неинтересная судьба.
Виктор Кочетков остро чувствует: нельзя говорить о живой и солнечной поляне
стеклянным языком, невозможно восславить сверкающий гром бескровной речью. Слово
— показатель твоей страсти, твоей нравственной и философской глубины:
О, эти безгромные воды,
тишайшие эти ручьи.
Ворчливая нежность природы —
гуденье пчелиной семьи.
Сказано просто, но за этим видится человек, идущий по родным полям, человек,
знающий цену солнцу в небе, колосу на земле. Но доброта, ясность, отзывчивость
этого человека нисколько не дает нам права причислить его к смирным, безвольным
согражданам планеты. Вчитайтесь, вслушайтесь, почувствуйте:
Скатерка гречишного поля,
гусей пролетающих клин,
и воля, сарматская воля
окутанных дымкой долин.
Неожидан поворот мысли в этом небольшом стихотворении, отважно нацеленном на
вечную душевную высоту, на наше русское беспредельное подвижничество; вдруг
толкнуло тебя в душу, обожгло, унесло далеко-далеко, где сеется древний
славянский туман, где, звеня и мерцая, с каменнолобой гряды взлетает миф, как
седой орел:
Только травы под ветром пронзающим клонятся
да сурок навостряет напугано ус.
Говорят, что прошла здесь монгольская конница,
Говорят, таборил здесь хазарский улус.
Под сожженными солнцем седыми курганами,
под тяжелой плитою степной целины
евразийские орды со всеми каганами
и со всеми кагалами погребены.
Перечитайте неспешно книгу стихов Владимира Высоцкого “Нерв”, и увидите — нет
поэта. Каждое его стихотворение требует дополнительного вмешательства: или
сценой, или голосом, или аудиторией, иначе — стихи не выдерживают никакого
принципиального разбора. Я считаю Владимира Высоцкого настоящим бардом,
импровизатором, человеком, который обладал трагической нотой, оригинальным
юмором. Но стихи Владимира Высоцкого воспринимаются только в комплексе жеста,
мимики, звука на сцене и среди аудитории.
Поэзия — самостоятельная планета. Не надо ей разных “помощей” и разных
подставок, декораций, дополнений и прочей лепки. Владимир Высоцкий, я думаю,
понимал это. Иначе — он отточил бы в себе мастерство поэта, а не мастерство
актера. Песни Владимира Высоцкого часто пародийны. А пародия — есть пародия.
Пародией не заменить ни строк Пушкина, ни строк Есенина.
Серьезность слова, серьезность темы, серьезность чувства — признак истинного
дарования:
Студеный север.
Покрик журавлей.
Янтарный свет
Песчанного Закамья...
Душа моя,
Вовек не отболей
Высокою
Тревогою
Исканья.
До смертного мгновенья
Сохрани
Любовь
Вот к этим рощам и дорогам.
Не променяй
На модные огни
Звезду,
Что светит над родным порогом.
Святую непосредственность ощущений детства, юношескую доверчивую восторженность,
суровую преданность бойца сохранил в себе и пронес через многие испытания и
перевалы поэт. Как нежный белый журавль не умеет строить гнездо в другом, чужом
для него месте, так и поэт, но умеет растить свою любовь, свою верность к
неродному, чужому для него дому. Он всю жизнь, всю свою судьбу будет тихо
кружиться памятью над отцовскими лужайками и взгорками, над почти забытым
перелеском...
Вот — из стихотворения поэта глянула на тебя седая горюнная русская мать. Вот —
встал усатый русский воин на Шипке. Вот — загорелся в туманном поле обелиск
погибшего товарища, брата:
Задубелою варежкой
Слипшийся снег разгребая,
Я добрался уже
До колючей и клеклой земли,
Где ж вы, друга мои,
Костя Лось,
Хусаин Кунакбаев?
Вы ведь только что рядом
В цепи атакующей шли.
Виктор Кочетков — поэт верности. И это подтверждено его замечательными стихами!
1982
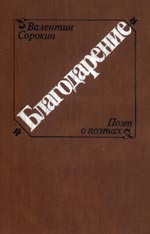
Далее читайте:
Валентин Сорокин
(авторская страница).
Кочетков Виктор Иванович (1923-2001), русский поэт.
|